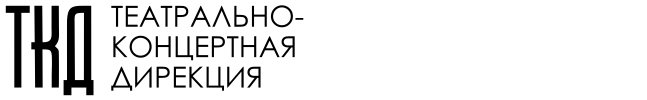«Комната Платонова»
26 сентября 2018«Река Потудань» в Псковском театре — пространство свободных ассоциаций. Соответствия визуального, акустического рядов тексту — всегда непрямые, неоднозначные. Речь, музыка, среда, физическое действие согласованы в высказывание не вербального, а скорее иероглифического плана, герметичное и вместе с тем открытое толкованиям.
Павильон на Камерной сцене напоминает какое-то казенное больничное помещение, вроде комнаты отдыха в доме для престарелых. Тускло-зеленая краска стен; сквозь небольшую прямоугольную нишу, напоминающую замазанное белой краской окно, проникает свет; другое такое «окно» — небольшой плазменный экран, установленный на стене. В четырех креслах, обращенных в зал, — точно в забытьи неподвижные человеческие фигуры с закрытыми глазами: три немолодых человека и одна девушка. На экране периодически возникают фрагменты человеческого тела — глаз, губы, ключица, пульсация нежного женского горла. Кажется, это не глаз показывают нам, а глаз наблюдает за людьми, заключенными в больничную комнату-коробку. Когда один из стариков подходит к экрану и касается фрагмента лица на нем, не возможно не вспомнить знаковый кадр из «Персоны» Ингмара Бергмана.

Отсылки к фильму работают и на других уровнях: персонажи/персоны спектакля бессловесны, погружены в некое подобие деменции. Артисты Псковской драмы, заслуженные и народные, существуют в отказе от главного инструмента сценического выражения — речи. Сходство с поэтикой фильма Бергмана усиливается, когда участница спектакля, хореограф и актриса Илона Гончар, появляется в костюме медсестры.
Текст рассказа Платонова, то тише, то громче, то яснее, то глуше, иногда будто пробиваясь через радиопомехи, звучит, от начала и до конца записанный голосами участвующих в спектакле актеров: Виктора Яковлева, Юрия Новохижина, Надежды Чепайкиной. Кажется, будто идет трансляция радиоспектакля в доме престарелых. Речь, электронная музыка (композитор Владимир Бочаров), радиопомехи, журчание воды за окном составляют активную звуковую среду. У артистов здесь самостоятельная партитура действий, но иногда эти действия как бы синхронизируют их с текстом. Например, в тот момент, когда звучит рассказ о покойной матери Никиты, Надежда Чепайкина поет фольклорную песню и гладит лицо Виктора Яковлева. Или когда Юрий Новохижин идет за Виктором Яковлевым, повторяя его движения след в след, а мы слышим рассказ о том, как отец Никиты думал, что это он мог бы быть женихом Любы.
Но артисты не разыгрывают текст, не разыгрывают роли героев. Это мы, зрители, совершаем акт персонификации или отождествления их — с персонажами Платонова, это мы совершаем акт согласования визуальной партитуры — с текстом. Вслушиваясь в текст, мы начинаем соотносить самоуглубленного Яковлева — с Никитой, заботливую девушку-медсестру — с Любой, суетливого Новохижина — с отцом Никиты.

Ситуация рассказа Платонова — ситуация неясности отношений, тревоги, сомнений, отложенного ожидания — согласована с природными циклами: Никита и Люба соединятся не раньше, чем наступит весна, чем двинется лёд на реке. В спектакле нет событий, есть длительности, состояния, явные и неявные воздействия, мельчайшие атмосферные изменения, осуществляемые через звук, свет, прешептывание и перекличку голосов «за кадром». Артисты существуют на сцене самоуглубленно, будто в режиме непрерывного внутреннего монолога, кажется, вовсе не связанного с текстом Платонова, но, возможно, ассоциативного, временами «выходя из себя» и вышивая физические действия по канве звучащего текста. Эти действия — акты нежности или насилия по отношению к девушке. Ее «объектность», пассивность, покорность, еще до того, как она будет «персонифицирована» как медсестра, заявлены в самом начале таким актом насилия, когда Юрий Новохижин грубо толкает ее распластанное на полу безжизненное тело.
Функционально медсестра проявляет себя в ритуалах заботы, опеки (выдать таблетки в пластиковых стаканчиках, рассадить взволнованных подопечных в кресла), глядя на своих «пациентов» «глазами, полными терпеливой доброты», но ее облик (высокие каблуки, распущенные волосы, аккуратная шапочка) также отсылает к индустрии ролевого порно. Она — объект, она — катализатор актов нежности и насилия, но она же альма-душа, одухотворяющая, приводящая в действие пассивные тела ее «подопечных».
Часто в постановках по Платонову телесность игнорируется. У сценических героев словно нет физического измерения, а если и есть, то оно репрессировано, угнетено — голодом, войной, бедностью. Крайним выражением такого дефицита телесности была «Потудань» Руслана Кудашова: трудное взаимодействие кукол опосредовалось актерами в затрудненной коммуникации; инертность, неловкость деревянных фигурок выступала своего рода метафорой платоновского «косноязычия». Исключение представлял «Чевенгур» Льва Додина, но там телесность была коллективной, социальной.

В спектакле Сергея Чехова тело представлено в непосредственных феноменальных качествах. Пожилое, сутулое, одышливое или, наоборот, молодое, тренированное, спортивное (неслучайно в спектакле работает именно хореограф театра) тело не разыгрывает себя, а явлено в своей естественной выразительности.
У Платонова в рассказе герои не могут соединиться, потому что Никита слишком сильно любит Любу: «оказывается, надо уметь наслаждаться, а Никита не может мучить Любу ради своего счастья». А акт любви невозможен без эгоистического самоуглубления, в котором другой, его тело становится «объектом», инструментом наслаждения. В спектакле Чехова старое тело — очужденное тело. Герои несут бремя своей репрессивной телесности. Бессилие тела выливается в акты принуждения и насилия.
В рассказе Никита бежит отЛюбы, принимает аскезу молчания. В спектакле исчезает персонаж Виктора Яковлева. Вместо него появляется новый персонаж — молодой человек в черном (Денис Золотарев). Он рвется в закрытую дверь, пытается выбраться, потом бьет медсестру, тело которой затихает, остается недвижным на полу, точно мертвое. Этот акт насилия становится в спектакле переломным, актом символического убийства и перерождения. Полуобнаженные тела молодых актеров пульсируют, содрогаются, синхронизируются в бесконтактном танце-агонии, танце-любви. Так и в рассказе герои соединяются, пройдя через ситуацию смертной опасности и тоски: Никита своим уходом «убивает» Любу, возвращением — возрождает к жизни. Финал спектакля — своего рода торжество одухотворенной телесности. Тело девушки, пронизанное ровным нездешним светом, заливаемое потоками воды, застынет в раме окна, точно иероглиф, символ всепроникающей солнечной энергии.
Источник «Петербургский театральный журнал», автор Татьяна Джурова
Источник: Псковский академический драматический театр имени А.С. Пушкина