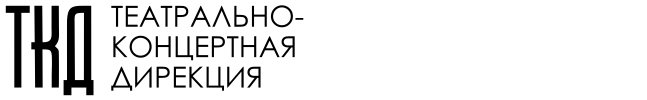Еще одно (последнее) сказанье. Петербургский Театральный Журнал
27 февраля 2019ТАТЬЯНА ДЖУРОВА
В программе нынешнего Пушкинского фестиваля присутствовала неочевидная драматургия, рифмы и параллели. Два полноценных пушкинских спектакля — «Выстрел» из Казани и «Пушкин. Борис Годунов» из Петербурга. Два моноспектакля и два женских образа в них. Две премьеры самого Псковского театра драмы. Пара спектаклей «по классике», разных по подходу: добротный традиционализм Владимира Туманова в «Мещанах» и новация Олега Еремина в «Собачьем сердце» из Южно-Сахалинска. А в пандан к «Собачьему сердцу» булгаковский же «Морфий» Этюд-Театра. Афиша в виду дефицита средств формировалась в чем-то стихийно, но «спонтанность» как эстетическая категория пошла фестивалю только на пользу. Арт-директор Андрей Пронин пригласил спектакли, вошедшие в офф-программу «Золотой Маски», заехать в Псков, что называется, «по пути». Так в афише появились «Свидетельские показания» Семёна Александровского из Красноярска и все то же «Собачье сердце». Международный аспект задала «Женитьба» из Бухареста, но тоже «русская душою», потому что появилась на свет из режиссерской лаборатории Олега Лоевского. Присутствие генеральной «цементирующей» идеи в афише фестиваля — вещь репрессивная: где заданы тема, сюжет, там всегда возникают рамки.
Уже традицией стало включать в программу какую-нибудь премьеру: не формально «спектакль сезона», а действительно первый показ нового спектакля псковского театра. «Гробница малыша Тутанхамона» — премьера не только российская, но и европейская, раньше пьеса канадки Оливии Дюфо в Старом Свете не ставилась вовсе.
Лет пять назад текст перевела Оксана Алёшина, пьеса была представлена на «Любимовке». Оливия, еще будучи Эриком, приезжала в Россию. Но дальше читок дело не пошло. И вот на прошлом фестивале в Пскове эскиз, больше похожий на спектакль, представила в рамках лаборатории Елизавета Бондарь. Год спустя театр «отчитался» премьерой.
«Гробница» — вещь разом жесткая и мелодраматичная, очень ладно сделанная. Редко встретишь пьесу, где все связано со всем и все работает, — как работают два мира, на границе которых существует Джейн, автор комиксов о маленьком фараоне. Амбициозная, одержимая своим делом, Дженни (Наталья Петрова) готовится принять участие в конкурсе женских комиксов «Смеючая ива». Но в самый канун подачи материала ее дочь-подросток Атланта с двумя одноклассницами совершают суицид, необъяснимо, неожиданным и диким образом: обложившись пончиками из ближайшего маркета и наглотавшись бензина на автозаправке. Одновременно необъяснимым образом оказываются уничтожены — залиты тушью — наработки Джейн к конкурсу.

Н. Петрова в сцене из спектакля «Гробница малыша Тутанхамона».
И тогда Джейн начинает придумывать новый комикс, рисовать истово, не внимая увещеваниям мужа и не замечая ничего вокруг, в том числе и подготовки к похоронам дочери. Герои комикса — они же близкие Джейн: Тутанхамон — суть ее дочь Атланта, раб фараона — муж, Анубис — он же устроитель «Смеючей ивы» Лаонел Физер, Женщина-крокодил, сжирающая грешные сердца, — подруга и соперница Джейн, Кисси Кандида. В этом «мире наоборот» жестокий, одинокий и несчастный ребенок-фараон тоже убивает себя, чтобы в царстве мертвых найти свою мать-мумию, когда-то покончившую с собой жестоким и изощренным образом.
Год назад Бондарь придумала и отыграла ход: во второй,"египетской«, реальности герои тогда ходили по заснеженным улицам Пскова, по промзоне с бетонными заборами и расписанными граффити стенами. Отработав этот прием, режиссер придумала совсем новый, агрессивный ход. У комикса, сочиняемого Джейн, теперь появилось политическое измерение. Здесь герои Древнего Египта представлены в виде тоталитарных диктаторов. «Я-я», — выкрикивает малыш Тутанхамон (Дарья Чураева) в коротких штанишках и с гитлеровскими усиками, начиная почти каждую свою реплику агрессивным вскидыванием руки. Картавит и закладывает большие пальцы рук в нагрудный карман жилетки Хоремхеб (Денис Кугай) в ленинской кепке. А позже появится и Анубис — Сталин (Евгений Терских), конечно, при трубке и усах.
«Великое черное ничто» визуализировано дырой в портале, формой напоминающей черную кляксу туши. На стенах возникает работа сумасшедшей художницы: фигуры и профили диктаторов в клубящейся хищной черной протоплазме. Это не картинки, а именно что видеомэппинг (технически очень мастерская работа медиахудожника Алины Тихоновой), динамичная анимация, иссекающая портал черными штрихами-порезами, которая движется, пульсирует, заряжена угрозой.
Актеры работают в особой манере звукоизвлечения: голоса тоже «анимированы», как у мультяшных героев, усилены подзвучкой. Вообще голосовая партитура проработана таким образом, что реплики напоминают комиксовые стрипы — подписи к картинкам. Интонационная окраска, громкость звука, продолжительность речевых периодов — все организовано таким образом, что дает эффект крупных (отдельное восклицание, какое-нибудь «БА-БАХ» или «БУМММ») или общих планов подписей.
Запоминается работа Дарьи Чураевой, чья Атланта — девочка со взглядом волчицы, мучительно расчесывающая покрытые толстым слоем черной туши предплечья. Или Анна Шуваева с плачущими интонациями и готовностью к самоуничижению в образе нелепой Кисси Кандиды и с хищной пластикой полиморфа, когда играет Женщину-крокодила.
И все бы хорошо, но только действительные исторические соотношения диктаторов очень трудно привязать к соотношениям героев пьесы. Также сложно объяснить, почему сознание художника переводит образы близких в такое однозначно-политическое, плакатное измерение, и почему это организаторы самых убийственных «массовых зрелищ» XX века?
Может быть, репрессивен сам художник, не берущий в расчет желания и чувства близких? Или репрессивна институция семьи, где люди калечат и ранят друг друга? Эта мысль повисает в воздухе, будучи названной режиссером, но не будучи развитой или воплощенной в каких-то конкретных приемах.
«Видимая сторона жизни» — спектакль, существующий уже почти 10 лет и в фантомном виде повидавший много городов и много зрительских буфетов: от буфета Кировского театра «На Спасской», где он появился на свет волею Бориса Павловича, до буфетов петербургского БДТ или Волковского театра в Ярославле.

Я. Савицкая в сцене из спектакля «Видимая сторона жизни».
Сейчас, смотря спектакль, видишь, что он прошел дистанцию, словно время само распорядилось так, что образ героя, придуманный на вырост, сел на Яну Савицкую как влитой, в нем стало меньше экзальтации и позерства, больше осознавания, больше опыта женской и артистической судьбы, сближающих лирическую героиню и исполнителя. Спектакль, в основу которого легли стихи и дневники Елены Шварц, не биографический, в нем образ поэта универсализирован, обобщен. Это обобщение происходит по ходу действия. Нарываясь на скандал и вызывая на бой, актриса и ее лирическая героиня совершают совершенно противоестественный акт самообнажения перед публикой, и в то же время в этом поэтическом стриптизе очень много целомудрия. Пьяная женщина в кожаной куртке, скандалящая в буфете, напивающаяся за счет заведения и задирающая зрителей (что в последнее время довольно опасно, так как зритель, прошедший испытание всякими иммерсивностями, при случае может и сдачи дать), становится поэтом-андрогином, и уже неважно, женщина она или нет. В том, как работает Яна Савицкая, много и личного, и расщепления «личностного», иероглифичности, игры ипостасей, среди которых воин, пророк, хулиган и, наконец, тот «атлант», на котором держится мир и не будь поэзии которого, этому миру давно была бы крышка.
Важна особая манера чтения поэзии Шварц: скороговорка по нисходящей, схлопывание речевого периода, в конце которого последняя фраза-строфа словно проглатывается, умирает, захлебнувшись в самой себе.
Моноспектакль Натальи Кузнецовой «Подлинная история фрекен Хильдур Бок, ровесницы века» (режиссер Александр Ряписов) — абсолютно другой природы, здесь квинтэссенция того, чем может гордиться нижегородская актерская школа: объем, плотность характера, микеланджеловский рельеф. Здесь перевоплощение достигается характерностью, сменой образов-масок. Пьеса Олега Михайлова укладывается в традицию пьес-апокрифов: из образа персонажа художественного, вымышленного (фрекен Бок) разрабатывается реальный человек, как бы прототип. И уже потом из этого реального человека вырастают Малыш, Карлсон и все-все-все. Героиня появляется на сцене в виде грузной одышливой старухи, молодеющей и стареющей ситуативно, по ходу действия. Так уже в финале, нацепив задом наперед свой аккуратный рыжеватый парик, многотерпеливая Хильдур – Кузнецова превращается во взлохмаченного хулигана-трикстера Карлсона. Сама форма репетиции интервью для ТВ, которой следует спектакль, оказывается игровой обманкой.

Н. Кузнецова в сцене из спектакля «Подлинная история фрекен Хильдур Бок, ровесницы века».
Героиня рассказывает свою жизнь, пропущенную через перипетии XX века, проращивает образ «другого». Этот «другой», будь то сестра героини, подвергнутая в конце 30-х насильственной стерилизации, или «другие» дети (в том числе трудный ребенок Сванте, компенсирующий невнимание взрослых изобретением воображаемого друга, собственной разрушительной ипостаси), чью особость вынуждены скрывать их родители, или же сама Хильдур, обрекшая себя на одиночество и путь служения другим.
«Женитьба» Петра Шерешевского Бухарестского театра Nottara на обсуждении дала повод к высказываниям о гендере, свойствах «мужского» и «женского» в современном обществе. Немудрено: Подколесин, Кочкарев, а также женихи представлены исключительно актрисами, женщинами. Листок, небрежно приколотый на портале, отсылает действие куда-то в 2033 год. В развернутой почти бессловесной экспозиции красивая молодая женщина выходит, подсушивая полотенцем вьющиеся волосы, разбивает на сковородку яйца, непринужденно болтает с не лишенным чувства юмора гоголем-гуглом (фонетическая игра — на румынском слова созвучны) о том, «зачем барину фрак?» и «не хочет ли барин жениться?» («фрак» и «женитьба» остраняются, как архаические дефиниции, о смысле которых приходится спрашивать всеведущий гугл), заходит в какой-то чат. И хотя листок адресует нас в будущее, картина жизни вполне знакомая: многие десятилетиями сидят в Тиндере, не испытывая потребности в реальном физическом сближении. Возникает точная зарисовка жизни, может быть, одинокой, может быть, герметичной, полной скрытых и полускрытых движений души. То, как молчит, как двигается, как думает о чем-то своем персонаж Андреа Танасе, задает спектаклю протяженность, ритм.
Как и в пьесе, легкий сумбур в ход этой жизни вносит рыжеволосая подружка героини (Кармен Лопазан) со следами туши на щеках и неустроенности в душе. У Кочкарева, как мы знаем, свои проблемы, но актриса деликатно оставляет их в подтексте.

К. Лопазан и А. Танасе в сцене из спектакля «Женитьба».
Кросс-кастинг совершенно особо работает, когда встает вопрос «седого волоса» и «ребятишек». Согласитесь, эти страхи и мечты, произнесенные от лица женщины, звучат совсем иначе, присваиваются на другом уровне. Выпив водки и «поймав волну», захмелевшие подружки отправляются на поиски приключений.
К идентичности главных героев, как бы они ни звались, вопросов нет. А вот образы других женихов, тоже сыгранных актрисами, куда более карнавальны. Маскулинность Яичницы, Жевакина и Анучкина подчеркивается накладными усами, шевеля которыми, те обсуждают невест в общем чате. Но и здесь возникает гротескная двойственность: усатые дамы, едва повстречав Агафью, страстным хором поют хит румынской эстрады 70-х о женском одиночестве.
Агафья же (Рареш Андрич) — робкий юноша в балетной пачке — семенит на пуантах среди женихов и говорит фальцетом. Этот образ утрированно виктимный. «Женственность» Агафьи — такая же роль, как и «брутальность» женихов. И то, что они подаются в приемах травестии, конечно, дает повод к разнообразным спекулятивным дискуссиям на тему того, что все гендерные настройки сбиты и вообще «не осталось настоящих мужиков». Особенно когда эти дискуссии ведутся в обществе, где далеко не то что до легализации «третьего пола», но до рассмотрения разных оттенков и градаций мужского и женского.
Если же оставить в покое половой вопрос, то образ Агафьи, каким он дан в спектакле, дает повод к размышлениям о природе женских образов у Гоголя вообще. «Ангел» ли женщина, или «демон» — в произведениях писателя это всегда непонятный «неопознанный объект», почти лубочный, к которому невозможно подключиться изнутри.
В румынской «Женитьбе» как бы два измерения. В одном — карнавализируется гендер. В другом — человеческое одиночество и невозможность контакта, вовсе не связанные с тем, какого ты пола, первого, второго или третьего. Подколесин с Агафьей во время свидания пялятся каждый в свой айфон, иногда подглядывая в экран к соседу и обмениваясь ничего не значащими комментариями, и расстаются с видимым облегчением. «Не совершай ошибку, не выходи из дома» — эту строфу Бродского можно применить к тому, что происходит со становящейся все более отрешенной героиней. Самоубийство (актриса просто закрывает экран камеры, снимавшей происходящее онлайн, рукой) эквивалентно спасительному прыжку в окно.

«Пушкин. Борис Годунов».
И, наконец, «Пушкин. Борис Годунов». Счастье, что фестиваль не прошел мимо этого спектакля, который сам позиционирует свою фантомную природу. «Спектакль, который никогда не будет поставлен» — несколько раз таким образом аттестует его нам со сцены автор и участник спектакля Лев Стукалов. Но в этом есть лукавство. Не скудость средств театра, названного когда-то «Нашим» и выросшего из курса СПбГАТИ, а сейчас вынужденно схлопнувшегося до авторской воли его руководителя, поддержанной несколькими актерами, а невозможность театром взять и «разыграть» весь объем пушкинской трагедии есть основа решения. И именно благодаря такому решению-отказу и возникает объем. Четыре исполнителя в прозодежде (Борис Стукалов, Ольга Кожевникова, Дмитрий Лебедев, Сергей Романюк); хор из трех галок-«начетчиц» с выбеленными лицами; разноцветная тряпка, становящаяся то мантией царя сродни той самой крэговской «пирамиде власти», из которой торчат головы придворных, то погребальным покровом; разрастающееся до гигантской гидры соломенное «чучелко русского самозванства» (Отрепьева здесь нет, он фантом, вырастающий из какого-то языческого обряда, обрастающий и крепнущий страхами и слухами); постоянные комментарии и отступления Льва Стукалова, задающие вариативность, а еще таинственная темная глубина сцены — из всего этого и возникают объем, недосказанность и внятность разом, и желание снова и снова вспоминать спектакль.
Есть еще и Пушкин как герой, ловко занимающий место Гришки только в исключительных случаях, например, в «романтической» сцене любовного объяснения с Мнишек. В остальных случаях, как говорит сам режиссер, «у кого цилиндр, тот и Пушкин». Есть острые политические отступления, как, например, сообщение о внезапной болезни царя после визита «английских» послов Чейна и Стокса. Есть ультранатуралистическая агония отравленного царя, хрипящего и пускающего кровавые пузыри, опять же — в сопровождении злонасмешливого комментария Стукалова о невозможности произнести в таком состоянии трагедийный монолог-напутствие сыну.
Благодаря всему этому исключительно театральными, игровыми и интеллектуальными приемами выводятся на поверхность, обозначаются разные слои и планы пушкинской трагедии. Режиссура Стукалова ядовита и поэтична. «Бедный» театр дает высокий уровень сугубо театрального осмысления материала. И это было очень важное решение — включить в программу «Наш театр». Действительно живое, а не музеефицированное пушкинское слово должно было прозвучать на фестивале, и оно прозвучало.
НАТАЛИЯ ЭФЕНДИЕВА
На Пушкинском фестивале я оказалась впервые и пробыла не весь срок. Но даже за небольшой период времени, проведенный там, некоторые вещи удалось уловить и понять.
Во-первых, программа лишь внешне выглядит разнобойной. Посмотрев повнимательнее, можно обнаружить внутренние созвучия тех или других постановок. И это не только имена авторов литературных и драматургических текстов. Но и темы, мотивы, сюжеты.
Во-вторых, совершенно точно удалась лекционная программа, в которой собрали отменных лекторов — театроведов Анны Степановой, Яны Глембоцкой, Павла Руднева и киноведа Алексея Гусева.
«Свидетельские показания» — пьеса, в которой драматург Дмитрий Данилов отказывается от физического присутствия главного героя, собирая его портрет из мнений, высказываний, суждений коллег, друзей, шапочных знакомых. В Красноярске спектакль Семёна Александровского играют на закате: по мере того, как уходит естественный свет, исчезает и надежда получить о протагонисте хоть какое-то четкое представление. На Псковском фестивале «Показания» «Театра на крыше» (Красноярск) шли в Приказных палатах при искусственном освещении.
Зрительские места размещены по периметру Палат, образуя тем самым квадрат. По его углам рассажены артисты. В центре появляется трубач и дает сигнал к началу, после чего актеры по очереди произносят монолог за монологом, обращаясь то к зрителям, то в центр квадрата — в пустоту. Главный герой так и не появится: уже из первых реплик ясно, что молодой человек свел счеты с жизнью, а все рассказы о нем — показания, даваемые следователю. Тоже невидимому.

«Свидетельские показания».
Прием флешбэка, когда о некоем событии и его участнике(ах) узнаешь постфактум, в театре и кино применяется не впервые. Например, в уэлссовском «Гражданине Кейне» в течение почти двух часов реконструируется жизнь Чарльза Фостера Кейна. Похожим делом — воссозданием ускользающей из рук реальности — заняты рассказчик в «Расёмоне» Куросавы и фотограф в антониониевском «Фотоувеличении». И каждый раз в конце возникает не точка, а вопрос — в самом ли деле было так, как описывают очевидцы? В «Показаниях» действительность аннигилируется с той скоростью, с какой звучат слова героев. Каждое следующее свидетельство опровергает или отменяет предыдущее. Собранная вместе информация не дает искомого результата: мы как не знали ничего о человеке, так, вероятно, и останемся с этим незнанием. Подогнать героя под какие-то одни рамки или представления не удается, он превращается в фантом, растворяется в чужих репликах, а зрительское любопытство по мере движения к развязке разжигается все сильнее — хочется разобраться, «а что за мальчик-то был?». Понятно только одно: всю свою жизнь молодой человек сознательно или бессознательно сопротивлялся ярлыкам и стереотипам. Актеры произносят текст почти двух десятков персонажей с иронией и даже сарказмом. Меж тем свидетельские речи — набор трюизмов и словесных штампов. Человек утрачивает свою исключительность. Впрочем, удивляться этому не стоит. Как поясняет один из опрашиваемых, священник: «Вы напрасно думаете, что нам люди на исповеди какие-то удивительные вещи рассказывают. Бывает, конечно, но очень редко. В основном, одно и то же, одно и то же. Стандартный набор. <…> Такой вот мутный серый поток. Стоишь в этом сером потоке, и он течет, течет мимо тебя. Очень редко, когда что-то такое особенное, какой-то изумляющий грех». Банальность здесь привычна и давно уже стала естественным способом существования. Избавиться от нее пока удается лишь одним способом — шагнув из окна своей квартиры в пустоту.
В результате, «Свидетельские показания» вместе с «Человеком из Подольска» и «Сережа очень тупой» составили своеобразную трилогию. Допрос становится приемом, с помощью которого выстраивается повествование. В «Человеке» настойчивое расспрашивание помогает выстроить жизнь рядового человека и взглянуть на нее словно через магическое стекло. В «Сереже» внезапно вторгшиеся курьеры разносят в клочья мир героя, а затем к финалу он собирается обратно. В «Показаниях» же протагонист не появляется вовсе, его реальность пытаются склеить из полученных свидетельств, но оказывается, что это попросту невозможно — реальность уходит сквозь пальцы, и даже речевые формы неспособны ее зафиксировать.
Для своей версии «Собачьего сердца» (Сахалинский Международный театральный центр имени А. П. Чехова) режиссер Олег Еремин избрал пышную, избыточную, местами даже маньеристскую форму. Сцена щедро устлана звериными шкурами — енотовыми, волчьими, рысьими, медвежьими и так далее. Там и сям по ним раскиданы бюсты людей, гуманоидов, рептилий. В глубине сцены — бутафорское (слава богу!) чучело крокодила. Среди такого великолепия профессор Преображенский (Андрей Кузин) и доктор Борменталь (Сергей Авдиенко), повадками и манерой речи скорее похожие на чиновников от науки, принимаются за обед и беседу. Очаровательная горничная Зиночка (Татьяна Никонова), одетая в невесомое полупрозрачное платье цвета шампань, подает одно блюдо за другим. Шарик (Владимир Байдалов) держится поблизости. Выглядит он как получеловек-полупес: актерскую талию обвивает часть с задними лапами и хвостом. Впрочем, одень режиссер с художником Сергеем Кретенчуком артиста Байдалова полностью в собачий костюм, это вызвало бы не соответствующие замыслу зрительские смешки. Спектакль все-таки не для детей! Пес ведет себя, словно аристократ из обедневшего рода: с достоинством принимает предложенную еду, поглощает ее при помощи столовых приборов и сдержанно ластится к хозяину. Однако праздник длится недолго: подопытного уводят за ширму, откуда тот появляется уже в человеческом обличье, признаком которого служат мужские штаны. Шариков немедленно принимается захватывать окружающее пространство: выдергивает стол из-под рук профессора, затем требует сжечь книги и, уверовав в безграничную власть над присутствующими, пытается изнасиловать Зину. Тьма, с самого начала обступавшая оазис со столом со всех сторон, становится еще гуще.

«Собачье сердце».
Во втором действии Шариков возвращается не один, а с подельниками, разряженными как на ярмарку. Грядущий хам уже совсем не грядущий, он пришел и множится, клонируется, распространяя вседозволенность и невежество. Собирательный образ люмпенов, подминающих под себя все отличное от них, несомненно, удался. Это действительно масса, или точнее — многоголовая гидра. Та самая, от которой защищали революцию и новое государство. А все вон как обернулось. Они не способны говорить связно, издают лишь отдельные звуки, всегда держатся кучно, двигаются хищно, в любой миг готовые схватить жертву и уничтожить. Рефреном звучит шариковская реплика: «Я — дикарь». Сперва вопросительно, позже — самоуверенно и победно. Борменталь, единственный из всех, будет сопротивляться наступлению: придушит одного Шарикова, второго, третьего, четвертого. Но они, словно зомби (в одной из сцен действительно так и выглядят), самовоспроизводятся и настигают снова и снова.
Изобретательная форма, при помощи которой Еремин доносит до зрителя свою мысль, в итоге оказывается самодостаточной и заслоняет содержание, и без того не слишком оригинальное и глубокое. Многозначность булгаковского текста упрощается и спрямляется. И на выходе получается история про научный эксперимент, ненароком превратившийся в социальный, и про то, какой примитивный результат был в итоге достигнут.
P. S. В действительности получилось увидеть больше чем два спектакля. Лучшим из них считаю лихой, энергичный и технологичный (в буквальном смысле) «Ревизор» Петра Шерешевского. Однако про него Петербургский театральный журнал уже писал.
Источник "Петербургский Театральный Журнал"
Источник: Псковский академический драматический театр имени А.С. Пушкина